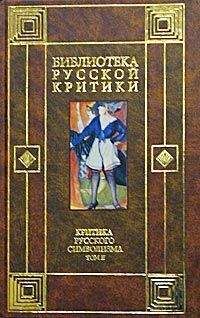Автор неизвестен - Журнал День и ночь
Сестрорецк
И вовсе не затем, чтоб чтил искусствовед,С восторгом посвятив статью твоей картине,
Ты нарисуй июль, раскрась в зелёный цвет,
Добавить не забыв двоих посередине.
Пусть это будешь ты — веснушками рябя,
Идущая к воде, красива, молчалива;
Пусть это буду я, глядящий на тебя,
Пусть это будем мы на берегу залива.
Вот чайка над волной, вот яхта вдалеке,
И тишина вокруг стоит глухонемая.
Скажи мне на каком угодно языке –
Я всё, как есть, пойму, дивясь, что понимаю.
Внимаю, как школяр, покою здешних вод,
А в гомон городской пока ещё не тянет,
И вовсе не затем, чтоб чтил экскурсовод,
Незримыми ему
Веди меня путями.
белое
Вот он падает, белый, большой;
Я в ларьке покупаю печенье и свежий
И ещё ничего за душой.
Это что-то и вправду из той поры,
Время вспятит, того и гляди, —
Я съезжаю на санках с высокой горы,
И ещё ничего позади.
И метель в лицо мне, и, сквозь прищур,
Сам себя вижу в старом пальто:
Я ищу тех, кто спрятался, я ищу,
А ещё не потерян никто.
И учитель в школе, суров и зол,
Смотрит очень нехорошо:
На дом задали жизнь, а ты, вот позор,
Неготовым к уроку пришёл.
Майская метель
По улицам, которых не узнал,
Ступаешь, воротник приподнимая, –
В снегу Екатерининский канал;
Метель во все концы в разгаре мая.
И хочется домой, домой, домой,
Но ходишь, удивлённо лицезрея
Такие пробки, что ни Боже мой:
Пешком быстрее.
День выдался на редкость непогож,
Синоптиков не выполнив приказ, но
В такие дни острей осознаёшь,
Как жизнь грустна, бессмысленна, прекрасна.
А можно, позабыв о ерунде,
Сощурившись от снега и от ветра,
Шепнуть сакраментальное «Ты где?», –
И ждать ответа.
Carpe diem
В этот медленный, медленный день,
Заносящий листвою пути,
Будет холодно, что ни надень,
И невесело, как ни шути.
Есть причины для боли в виске,
И, когда всё на свете вверх дном,
На каком бы сказать языке
Что не выскажешь ни на одном?
Только то и умею, могу;
Только тем я, наверно, и жив,
Что ловлю каждый миг на бегу
И жалею о нём, упустив.
Нам бы времени чуть одолжить -
Мы бы в счёт этих дней и ночей
Стали по-настоящему жить:
До подробностей, до мелочей.
Мы бы в счёт этих месяцев-лет
Обустроили собственный рай.
Вот и жалко, что времени нет,
Даже если его — через край.
Троллейбус II
Сидеть в троллейбусе голубом,
Без всяких «быстрее, ну!»,
И слушать плеер, прижавшись лбом
К троллейбусному окну,
А там — пейзажи, что хоть в альбом,
Но кисти не обмакну.
Плывёт, как рыба, в окне собор.
Я призрак — я глух и нем.
А кем и быть-то, как не собой,
И как не с тобой, так с кем?
Но транспорт едет мой голубой,
Невольник маршрутных схем.
И в этом, собственно, вся беда:
Он едет, включив огни,
Пока протянуты провода,
А дальше уже ни-ни.
И лишь кондукторша скажет: «Мда.
Конечная, извини».
У всех — дорога. Никто не свят.
И не предсказать маршрут.
Иные едут куда хотят;
Другие — куда везут.
Пойдём, родная,
кормить
утят.
Я знаю чудесный пруд.
белое
в метеолотерее, в один из дней,
выпадет белым жребием снег на землю, и снег над ней
будет последнее, что я увижу перед.
что мне сказать в конце, помимо спасибо за
несбывшееся слово, преданные глаза,
спасибо за настоящее, что будущему не верит.
поймёшь, говоря голове и снегу: кружись,
что нет лишних черт, ни одной, в иероглифе «жизнь»,
проводишь до остановки время, смешон и жалок, —
и мир покачнётся, уже не беря в расчёт
детали, мысли, проблемы, что там ещё,
вопросы морали, решаемые без шпаргалок.
но небо не рушится, осень стоит, где была,
и если ты спросишь, как у меня дела,
рассказывать долго, а если вкратце:
как будто не зная, что роль их слаба, слаба,
как заведённый, я складываю слова,
когда вычитанию самый сезон начаться.
я бы мог и взахлёб, навзрыд, мне нашлось бы, о чём навзрыд,
чтобы строчка дала эффект пресловутого кома в горле,
потому что и впрямь — болит, ведь у всех что-нибудь болит,
но, сдержавшись в который раз, я зачем-то пишу другое.
нет бы выглянуть из-за штор, да и, выглянув из-за штор,
заявить, что неважно — как, что могу хоть глагол с глаголом;
ведь и вправду неважно — как, но гораздо важнее — что
эй, трубите на все лады, что король оказался голым.
мир печален, но он красив, улыбнись, он же так красив,
ничего не хочу писать, я тобой хочу любоваться,
потому что люблю тебя, разрешения не спросив;
потому что уходят дни, и за двадцать уже, за двадцать.
я в словесной тону воде, но когда не тону в воде —
я стою. подо мной земля. неизбежное небо — выше.
так стоят поезда порой на пустых полустанках, где
никогда б не вошёл никто
и никто не вышел.
37
на удачу не уповая, примирившись и с тем, и с тем,
я на тридцать седьмом трамвае еду мимо облезлых стен,
и, пока эту чуть живую проезжает он полосу,
несущественно существую, несусветную чушь несу.
будто жаждут передавиться пассажиры, устроив гам.
я ж уткнулся в передовицу и не верю её словам.
мы с политикою бок о бок: я не с ней, но она со мной.
у неё милицейский облик, неприветливый и земной.
вот он — край мой, родной, капризный, да не капри, не сенегал.
пусть другой назовёт «отчизной», я названий бы избегал;
край, где каждый правитель — хмурый, оснащённый бревном в глазу.
дальше — вырезано цензурой;
дальше — вырезано цензу
г. Санкт-Петербург
Алексей Сомов
Snuff
Осталось так мало теплых дней лета.
КрематорийКому — бесстыдная весна,
кому-то песенка шальная,
Кому-то весточка из сна:
Я умерла, а ты как знаешь.
И только ветер простонал
да закачалися деревья,
как забухавший Пастернак
в обнимку с Анною Андревной.
Ты кончилась, а я живу,
зачем живу — и сам не знаю,
а все как будто наяву,
и снова песенка дурная
поёт, поёт, звенит, звенит,
бесстыдно перепутав даты,
а в небе радуга стоит,
а в горле — мёртвый команданте.
Однажды, ядерной весной,
мы все вернёмся, как очнёмся,
в горячий город, свой-не свой,
и мы начнём, и мы начнемся.
Скребут совки, картавит лёд,
шипят авто, плюются шины.
а в небе радио поёт
про то, что все мы где-то живы.
…белесые сухие небеса,
глядящие осмысленно и цепко.
И воздух будто взвешен на весах
аптекарских —
ни грана без рецепта.
И церковь, и ограда, и кресты —
все слишком просто, буднично, осенне,
поскольку мир спасён от красоты
и заодно — от веры во спасенье.
И только удивлённый холодок
проскальзывает где-то между рёбер.
Ты видишь —
ангел в пластиковой робе
босой ступнёю пробует ледок?
И снова настигают голоса,
дома, деревья, улицы и лица.
И надо всем — пустые небеса,
простые небеса Аустерлица.
Воскресение, радость, сухие глаза,
самый медленный поезд на свете,
все, что можно представить и все, что нельзя —
лишь бы только не видели дети.
(Запрокинется в небо чужое лицо —
и каштаны посыплются под колесо.)
Променад по больничному дворику — глянь,
как несуетна жизнь год за годом.
Я в неё проникаю до самых до гланд,
я вхожу в этот пряничный город.
(А потом — только пряди намокших волос.
Я взорву этот город, знакомый до слёз.)
Но прошу тебя, ты обозначь, проследи
траекторию главного чуда
перед тем, как забьюсь-упаду посреди
оживлённо молчащего люда.
(И каштаны посыплются на тротуар,
как последний,
сладчайший,
немыслимый дар.)
…Зима как расплата, зима как ответ
по прочным понятиям спящих кварталов.
Да только и слов-то за пазухой нет —
так странно, а раньше как будто хватало.
А раньше хватало и слов через край,
и силы, и славы — по самые звёзды.
Пробьётся нечаянная искра —
и карточный домик взлетает на воздух.
И — голое поле, где выдох и вдох
нарезаны ветром на равные доли.
Звериная тяга, внимательный ток —
так что же случилось, скажи, ради боли?
…Не надо, не стоит, не трожь, не замай —
декабрь успокоит, январь утрамбует.
Зима как осечка. Зима как зима,
да только вот снега не будет. Не будет.
Рождественская колыбельная